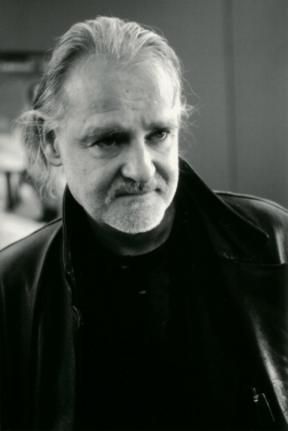
За апокалипсисом
«Туринская лошадь», режиссер Бела Тарр
Шопенгауэр, хоть и пессимист, собственно — играл на флейте… Ежедневно, после обеда; прочтите об этом у его биографа. И вот еще между прочим вопрос: пессимист, отрицатель Бога и мира, который утверждает мораль и играет на флейте, подтверждает […] мораль: как? разве это собственно — пессимист?
Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла
Есть невероятный соблазн в том, чтоб причислить «Туринскую лошадь» к фильмам прекрасным, но старомодным. Именно эти эпитеты мелькают у критиков, говорящих о квинтэссенции стиля («библейская фреска», «величественная метафора») и останавливающихся как вкопанные перед моралью. Последняя таинственным образом исчезает в описании «притчи об апокалипсисе».
Одним словом, большинство легко удовлетворяется тавтологией («Конец всего — это просто конец всего»), как если бы апокалипсис был темой и одновременно идеей любого произведения.
Справедливости ради заметим, что режиссерские интервью ничуть не противоречат расхожей интерпретации фильма. «Туринская лошадь» объявлена «лентой-прощанием», после которой «ничего невозможно». Бела Тарр заканчивает карьеру и символически уходит на пенсию1.
Пожалуй, единственное, что останавливает эту замечательную игру в очевидность — сама идея «последнего фильма». Ведь мысль о закате истории — есть мысль историческая par excellence и в этом качестве не избегающая во-проса «А что потом?».
Тарр, впрочем, отвечает с чудесной наивностью — все когда-нибудь приходит к концу. Однако Тарр-художник (отличающийся от Тарра — человека и комментатора) говорит нечто совершенно иное.
Оставляя позади анекдот (впечатляющую сцену в Турине, где Ницше заплакал от вида истерзанной лошади), фильм повествует о лошади и вознице, о мире, охваченном энтропией. В постепенном угасании жизни здесь останавливаются огонь и вода, живая и неживая природа. Все, кроме самого человека, гонимого ветром и спасительным незнанием собственной участи.
Можно сказать, что у Тарра существует смирение вещей внутри отмеренного круга возможностей. Огонь знает, что перестанет гореть, колодец — что высохнет. Лошадь чувствует наступление смерти. Каждая вещь не больше себя самой и смирится перед наступающим возникновением и гибелью. И лишь человек, влекомый иллюзией, не ведает, что существует конец всего.
Возница встает и идет за плугом, дочь носит воду и переодевает его перед полуденным сном. Он пашет землю, она ставит на стол две темные, как уголь, картофелины. А после каждый торопится к пустому окну. Садится, словно в театральную ложу, и замирает в ожидании зрелища.
Так молчание бога позволяет человеку надеяться2: с крестьянским упорством пересекать очередную опустошенную землю и возвращаться в другую, смирившуюся с собственной скудостью. Исполнять однажды заведенный порядок, не переставая вглядываться туда, где нет ничего, кроме ветра.
Бела Тарр выстраивает кадр как театральную мизансцену: полупустое пространство, венчающееся перекрестьем окна, реквизит суперусловного действа и персонажи с внешностью библейских пророков, вылепленных угловой светотенью.
Театральность, в которой многие видят возвращение в 80-е, здесь живет в контрапункте с монотонностью времени. Геометрия каждого кадра спорит с невыносимой «прибавкой» реальности, с тем, что никакой образ не может усвоить. Тарр словно сражается с жизнью, однообразно втекающей в объектив, строит плотину из символов, пытаясь сдержать энтропию времени. Впрочем, сам Тарр едва ли узнал бы себя в этом высказывании.
Читая его интервью, понимаешь, с каким упорством режиссерская воля расходится с человеческой. Для последней нет ничего, кроме вещи в ее сугубой материальности; ничего, кроме лошади, огня и колодца.
Это почти физическое переживание пространства3 роднит Тарра с Андре Базеном, для которого кино — презентация, зрелище, получившее шанс говорить без посредников.
Однажды сняв «Сатанинское танго», Тарр делает шаг на обочину. Но не к «синема-верите», — как думают многие — и не к жизни как спонтанной естественности, а к реализму как собиранию критической массы времени и про-странства. У него поражает не пресловутое «чувство спонтанности», но момент чрезмерности, то, что невозможно увидеть.
Не случайно Тарром так вдохновлялся Ван Сент, начиная с «Моего личного штата Айдахо» ставящий бесконечный оммаж его фильмам. В «Джерри» герои теряются, потому что не в силах справиться с иррациональным однообразием повседневности. В «Слоне» меланхолия сочится из тел и предметов, медлительно угасающих, словно слепнущих от собственной красоты4.
Есть два «сюжета», важных в отношении Тарра. Во-первых, его стремление к минимальному монтажу — одержимость утекающим временем, жизнью, чья красота почти тошнотворна. И, во-вторых, любовь к театральности, минимализму как обязательной раме, которая дает слово невыразимому.
Собственно, у Тарра не так много возможностей высказать то, что так трудно поддается высказыванию, — либо вступить с образом в конфронтацию, либо символически его опосредовать. Режиссер выбирает второе. Он снимает метафорические истории, в которых завораживает непрерывность материи, ее упрямое, почти документальное присутствие в кадре5. В этом смысле традиционное ницшеанство всегда было «понятийным небом» его картин.
У Тарра есть бесконечное дление без шанса на эволюцию. В его фильмах постоянны рефрены — изматывающий секс героев в «Проклятии», монотонность супружеских отношений в «Крупноблочных людях». Любое движение — скольжение по кругу, попытки побега, не изменяющие реальность. Вещи тоже участвуют в этой игре в тавтологию, поражая упрямой настойчивостью присутствия. Впрочем, стиль Тарра ни в коем случае не уравнивает людей и предметы. Здесь нет ничего от магического реализма, ничего от желания одушевить природу.
Плач Ницше над истязаемой возницею лошадью — плач вырванного из природного мира мифом или метафорой. Лошадь не плачет над лошадью, огонь над огнем и лишь человек способен вообразить себе силу страдания, смирившись с той самой разницей, что отделяет его от всего остального6.
Не случайно картины Тарра словно бы медлят, возвращаясь из внезапного обморока изображения. Герои же — те выдерживают. Возница смеется над тем, кто приходит сказать о конце времен. Его, как и прочих (супругов из «Крупноблочных людей», героев «Проклятия»), спасают иллюзия ожидания, упорство, с которым выполняется заведенный порядок.
Как беккетовские Владимир и Эстрагон, люди Тарра пойманы в плен языка, у которого всегда есть свои «потом», свои небеса, уносящие персонажей туда, где спасается от кораблекрушения История.
Незнание участи есть то, что делает человеком.
В его экстатическом отрицании финала человек остается посередине между незнанием и верой в предопределенность, между философской догматикой и религиозной наивностью. Он избегает того, чтобы примкнуть к одной из строгих существующих истин, живет, словно на сцене, где вечное возвращение иступляется надеждой на зрелище.
Можно сказать и так. У Тарра, как и у Ницше, отблеск маскарадности мира помогает выдержать повторяемость вещей и событий. Благодаря искусной силе обмана и вере в метафору история возобновляется. И если даже погаснет огонь, исчезнет вода, лошадь встанет, как вкопанная, возница произнесет финальное «Ешь!», вгрызаясь зубами в сырой, черный, как уголь, картофель. Потому что каким-то образом знает: среди мертвых всегда оказываются не совсем мертвые.
1 Из интервью Белы Тарра А.Долину: «А сегодня у меня осталась единственная мысль: тяжко жить, и я не знаю, что предпринять и что меня ждет. Уверен я лишь в одном — конец близок. Именно поэтому еще до начала съемок я знал, что «Туринская лошадь» будет моим последним фильмом. Я доделал мою работу. Она завершена, упакована и запечатана. Хватит. Пора чем-нибудь другим заняться». Бела Тарр: «Я никого не осуждаю — я и сам в числе виноватых». http://www.openspace.ru/cinema/events/details/20632/
2 Никогда (до Ницше) фраза «Бог умер» не звучала как обещание вечности.
3 «Я не переношу искусственные декорации, поэтому мы построили настоящий дом, используя старинные обтесанные камни и старые куски дерева, позвали стариков строителей… Разумеется, мы старались быть перфекционистами и пытались воспроизводить архитектуру тех времен во всех подробностях. Потом вырыли колодец. Настоящий. Потом построили амбар. И отправились на поиски подлинного реквизита. Когда мы его собрали, перед моими глазами уже стоял будущий фильм». Из интервью Белы Тарра. (Там же.) Можно сказать, что реальность странным и одновременно естественным образом откликается на зов Белы Тарра. Симптоматично, что лошадь, игравшая лошадь, в конце съемок забеременела.
4 В этом смысле убийство есть необходимая хоть и внешне немотивированная «разрядка» реальности.
5 В современном кинематографе это сила присутствия, обязанная меморативной способности камеры, становится темой Михаэля Ханеке. Так, в «Скрытом» человек защищается, бесконечно «вычитая» себя или, наоборот, «вчитывая» в ограничивающие структуры, контексты. И вдруг, подобно герою Отёя, оказывается перед лицом этой «бездны возможностей». Именно повторение — безличная, ни на что не указывающая камера — и есть эта травмирующая «прибавка» в виде того же самого. Пленка, возвращающая и одновременно дублирующая будни Лорранов.
6 Для Тарра жить означает быть ограниченным, отличным от прочего, оценивать, обольщаться, менять убеждения. То есть быть иными, чем природа.
История (не о) лошади
«Туринская лошадь», режиссер Бела Тарр

Из кабака выходит пьяный извозчик с собутыльниками. Под их гогот он нещадно избивает свою лошадь. Тощая кляча умирает от побоев. В толпе зрителей — безучастных, глумящихся, сочувствующих — семилетний мальчик с отцом. Ребенок бросается к лошади, обнимает и целует ее мертвую голову, заливаясь слезами.
На улице кучер беспощадно хлещет кнутом свою лошадь, ставшую посреди дороги. Подбегает усатый господин и отталкивает его. Он наносит хозяину лошади несколько ударов, потом обнимает измученное животное за шею. Глаза незнакомца полны слез.
Место действия первого сюжета — Санкт-Петербург, время — 1865 год (условное время действия романа «Преступление и наказание») или 1849-й, если принять странный сон Родиона Романовича Раскольникова за реальное воспоминание из его детства. Место действия второго происшествия — Турин, время — 3 января 1889 года. Герой — философ Фридрих Вильгельм Ницше. Эта история правдива, поэтому делать допущения и предположения не нужно. Ницше сорок четыре года, и за оставшиеся одиннадцать лет жизни он больше не придет в сознание, будет помещен близкими в лечебницу для умалишенных и не напишет ни одного полноценного труда.
Неизвестно, читал ли Ницше «Преступление и наказание», хотя к моменту туринского случая роман уже был издан по-немецки под названием Raskolnikov и имел немалый успех. Но Бела Тарр и его верный соратник, писатель Ласло Краснахоркаи (из его миниатюры о Ницше и лошади родился сценарий «Туринской лошади»), наверняка знакомы с Достоевским не понаслышке. Они могли оценить пугающую параллель между двумя оплаканными лошадьми, взвесив как сходства, так и различия.
Приступ сострадания, пережитый во сне, не помешал Раскольникову взять топор и совершить задуманное, раскроив голову старухе процентщице и ее невинной сестре Лизавете. Правда, потом он покаялся. Достоевский верил в возможность и необходимость искупления, а потому дал блаженному персонажу — маляру, взявшему на себя вину в чужом преступлении, — то же имя, что и кучеру-садисту из сна: Миколка.
С Ницше вышло иначе. Всю сознательную жизнь он отрицал доктрину сострадания, не сходясь по этой части ни с Христом, ни с Шопенгауэром. Соблазнительно увидеть в слезах философа раскаяние, но куда логичнее трактовать их как признак умопомешательства, приведшего сифилитика Ницше к необратимому разладу между нижайшими и возвышенными состояниями тела и души (из записей лечащего врача в последующие годы: «Играл на фортепиано. Ел дерьмо»). Жалость к ближнему есть безумие, крайний и отчаянный жест. Капитуляция.
Фильм Тарра существует в невидимом поле напряжения между двумя лошадьми. Режиссер и сценарист исключают из сюжета Ницше, упоминая его только в эпиграфе: остальной фильм — развернутый ответ на вопрос «Что стало с той лошадью?». Тем самым, казалось бы, они отдают дань почтения Федору Михайловичу, а заодно последним полутора столетиям сострадательной литературы и кинематографа: ведь лошадь несчастней человека, она бессловесна и безропотна. Западные рецензенты тут же помянули Брессона с его ослом Бальтазаром, но русские могли бы вспомнить больше примеров. Толстого с «Холстомером» (по мнению Тургенева, Лев Николаевич был лошадью в прошлой жизни), Есенина с жеребенком, бегущим вслед за поездом, Маяковского с «Хорошим отношением к лошадям»… Даже с ослами русские писатели подружились раньше, чем французские режиссеры, — князь Мышкин благодарил за пробуждение к новой жизни именно осла.
В жалости человека к четвероногому всегда ощутимо высокомерие гуманизма; плач Ницше — о чем-то ином. Возможно, о сходстве человеческой участи с судьбой животного. Тут нет места сентиментальности — только знак равенства, однозначный, как приговор. Все испытали «общую звериную тоску». «Каждый из нас по-своему лошадь» — формула, с которой трудно поспорить. Но поднимает ли она животное до предполагаемо высокого уровня человечества или, наоборот, низводит «венец творения» до лошадиного состояния? Растерянные критики отметили этот парадокс, констатировав крайнюю несклонность Тарра к открытой эмоциональности. Ницше плакал, зрители «Туринской лошади» — вряд ли.
В частности, поэтому история о встрече философа с кобылой вынесена за рамки фильма. Она рассказана за кадром, на черном фоне, за пару минут. Кино начинается сразу после: седобородый извозчик возвращается из города домой, лошадь тянет повозку. Мы вглядываемся в ее усталую морду, предвкушаем тягостный рассказ о судьбе истерзанного создания. Но когда повозка достигнет пункта назначения — одинокого бедного хутора, лошадь отведут в сарай, где она останется на протяжении почти всего фильма. Оказывается, кобыла-страдалица — не главная героиня, а повод для разговора. Да и не бьет ее никто: наоборот, уговаривают поесть сена или хотя бы попить воды.
А она не идет, не ест, не пьет. Она тихо ждет в своем стойле. Проходит некоторое время, пока зритель не осознает, чего именно.
Лошадь ждет конца света. Единственное преимущество животного перед человеком — развитые инстинкты. Первой почувствовав, что происходит, кобыла остановилась посреди улицы. Люди (кроме одного усатого психа) намека не поняли. Они продолжали жить, как раньше. Тогда лошадь отказалась от сена и воды. Люди по-прежнему недоумевали. Но прошло несколько дней, и им пришлось смириться с неизбежным. Мир кончался быстро; хватило и недели. Впрочем, говорят, создавался он в те же сроки.
Структура «Туринской лошади» обескураживающе проста. Фильм поделен на шесть главок-дней, в течение которых камера пристально следит за бытом хозяев кобылы — стареющего крестьянина и его дочери. В первой из них поднимается ужасный ветер, и ночью умолкают древесные жуки, грызшие стену предыдущие пятьдесят восемь лет. Во второй день лошадь становится посреди двора, не двигаясь с места. Извозчику приходится остаться дома, сменив приличное платье на домашнюю одежду. Лысый сосед-мизантроп заходит за бутылкой палинки и объявляет, что границы добра и зла стерлись, а боги умерли («Чушь все это», — мрачно отвечает хозяин дома, и гость, смутившись, ретируется). В третий день лошадь отказывается от еды, а на хутор заезжают цыгане: выпив воды из колодца, они дарят девушке-хозяйке загадочную книгу. На четвертый день колодец пересыхает, а лошадь отказывается от воды. Крестьянин и его дочь собирают скарб, грузят на повозку и пытаются бежать из дома — однако вскоре возвращаются. На пятый день кончается свет: гаснет не только солнце, но и огонь в печи, и лампа. Наступает день последний.
На шесть дней творения — шесть дней разрушения. Тогда, в начале начал, все было созиданием: даже грех сотворяли. Сейчас, в конце концов, исчезло все, включая понятие «греха». За отношениями персонажей поначалу хочется рассмотреть какую-то трагедию. Где мать девушки, фотография которой висит на стене? Почему отец живет вдвоем с дочерью, нет ли тут секрета, нет ли подоплеки? Но их нет. Есть лишь отработанный до мелочи автоматизм. Оделся-разделся, встал-лег, сходил за водой к колодцу, сварил картошку, поел, задал корма лошади, а тут и спать пора ложиться. Не люди — элементарные частицы. Фактурные актеры — открытая Тарром в «Сатанинском танго» еще ребенком Эрика Бок и сопровождающий режиссера с еще более давних времен Янош Держи — неузнаваемы. Выражения их лиц, как звериных морд, невозможно прочитать, черты скрыты спутанной бородой — у мужчины и длинными волосами — у женщины.
Еще до съемок Бела Тарр объявил, что «Туринская лошадь» станет его последним фильмом — и, похоже, не шутил. Не в том дело, что караул устал и на пенсию пора. Последний — значит, исчерпывающий, после которого другие фильмы не потребуются (по меньшей мере, самому автору). Начиная с «Проклятия», все его картины можно было с большей или меньшей степенью точности назвать «последними». Все — об Апокалипсисе, все — об отмирании механизмов смыслопорождения и смыслоизвлечения, в пику традиционному символическому кино, которое Тарр с удовольствием пародировал: снимал так же протяжно и невыносимо живописно, но возвышенности предпочитал от-кровенный абсурд. Однако постмодернистское осмеяние штампов авторского кино не было сверхзадачей. Подобно музыковеду из «Гармоний Веркмейстера», режиссер чувствовал, что все мелодии, звучащие в этом мире, в чем-то неверны, даже фальшивы, и искал собственную, альтернативную (дис)гармонию. А в «Туринской лошади» нашел.
Увидев в начале фильма скупой пейзаж — холм, на котором растет одинокое дерево с раздвоенным стволом, — по инерции читаешь выразительный образ как символ: такое же нераздельное растение, которое никак не вырвать из почвы, представляет собой род и дом героев. По ходу просмотра стремление к метафорическим трактовкам исчезает. Черно-белая, замедленная по ритму и внушительная по хронометражу (два с половиной часа) «Туринская лошадь» по факту состоит из простейших и однозначных движений, содержание которых равно форме. Когда девушка берет из мешка картошку и несет к печке, она хочет ее сварить, а потом съесть. Когда старик раздевается, он ложится спать. Когда они запрягают лошадь, то собираются ехать в город. Когда берут ведра и идут к колодцу, намереваются набрать воды, а принеся воду в дом — умыться. Когда палинку наливают в стопку, ее выпивают. Когда наливают вторую стопку — выпивают и ее.
Символическим можно посчитать, пожалуй, только увечье извозчика, у которого функционирует левая рука, а правая висит плетью. Но само по себе отмирание «рабочей» руки, как пересыхание колодца, есть отражение уходящего из жизни смысла. То же — и со словами. Связных фрагментов речи всего два: пространная речь соседа и прочитанный по слогам абзац из неведомой книжки. Оба отвергнуты героями как непонятные и пустые. Слова сведены к простейшим командам и знакам, имена устранены за ненадобностью: из титров мы можем узнать, что фамилия сухорукого крестьянина — Ольсдорфер, но в фильме она не будет произнесена ни разу. Незачем.
Текст подменяет угнетающе однообразная музыка постоянного товарища Тарра композитора и артиста Михая Вига. Она призвана не оттенить какие-либо переживания персонажей или подчеркнуть атмосферу, а элементарно заполнить пустоту чередой ритуально-автоматических звуков (лейтмотив построен на трех повторяющихся нисходящих нотах). Стоит мелодии затихнуть, и останется только завывание ветра — агрессивного ничто, готового сдуть хутор и его обитателей с лица земли. Но зрелищного Армагеддона не будет: угасание постепенно, незаметно, как кашель старика, на который он сам перестал обращать внимание. Когда пустота одержит победу, исчезнет даже ветер. Наступят тишина и тьма.
Борьба материального мира, включающего в себя и людей, и животных, и неодушевленные предметы, с всепобеждающим вакуумом делает «Туринскую лошадь» резко актуальным фильмом. Любованию «просто жизнью», которое сегодня вошло в фестивальную моду, Тарр противопоставил еще более простую смерть. Ибо смерть и конец света — одно и то же, и никакого высшего содержания в них нет. Каждый кадр фильма вопиет о скрытом страдании скорого исчезновения, но не просит о пощаде. Если в этом есть хоть что-то ницшеанское, то никак не чья-либо воля к власти, а стоицизм, идеально воплощенный неподвижной фигурой лошади.
Едва ли не самое интересное в кинематографическом языке Тарра — эксперименты со временем. В «Туринской лошади» они достигают последнего предела, апогея радикализма. Сама кобыла — не только живое существо, в чем-то подобное человеку, но и средство передвижения. Перемещениями в пространстве меряется время. Лошадь отказывается идти, и время кончается. Его заменяет иллюзия времени, превращенного отныне в закольцованную бесконечную конструкцию, в уробороса. Любимый лейтмотив Тарра был воплощен сперва во вращении барабана стиральной машины в «Крупноблочных людях», затем в канатной дороге из первых кадров «Проклятия» — и может быть суммирован цитатой из «Макбета»: «Жизнь… — повесть, рассказанная дураком, где много и шума, и страстей, но смысла нет». Недаром свою экранизацию этой трагедии, сделанную для венгерского ТВ в 1982-м, Тарр уместил в два долгих плана, в знак непрерывности и бессмысленности любой судьбы, даже самой героической. Пляшущий под проливным дождем пьянчуга из «Проклятия», на которого завороженно смотрят его товарищи-рабочие, — тот же шекспировский дурак, за которым следом пускаются в пляс и остальные. Вальс из «Осеннего альманаха», хоровод из «Проклятия», «Сатанинское танго» как таковое — нескончаемый бал, где ритмичность отработанных па заставляет танцующих забыть о нелепости всего происходящего, но подчеркивает ее в глазах автора и зрителя.
Именно поэтому так важна остановка лошади и так страшны инерционные перемещения старика и его дочери. Жизнь неизбежно становится сизифовым трудом, причинно-следственные связи отменяются. Смерть, таким образом, — это не наказание и не результат, а единственный способ соскочить с бесконечной карусели. Но и ее не выбирают, а покорно принимают в дар от высших сил. Да, эти силы все-таки существуют (иначе кто устроил ураганный ветер, кто иссушил колодец, кто украл солнце — не цыгане же, в самом деле?). Просто их цели — не в том, чтобы управлять людьми, а в чем-то ином, непознаваемом. Вероятнее всего, человечество Бога вовсе не интересует — он слишком занят вопросами времени и пространства.
Кстати, о пространстве. Для съемок перфекционист Тарр выстроил в понравившейся ему долине настоящий каменный дом и деревянный сарай, вырыл колодец. Тщательность в деталях так бросается в глаза, что неожиданно вспоминаешь: герои картины — крестьяне, это их тяжелый и неблагодарный труд воспет тут! Очередная иллюзия: фильм — настолько же о фермерах, насколько о лошадях, и перед нами — не крестьяне, а люди как таковые. Их род занятий важен только потому, что позволяет Тарру — едва ли не впервые в его кинокарьере — избавиться от искусственности и натужности. Они привязаны к земле и дому, они лишены острой потребности в коммуникации, они не думают об окружающем мире, поскольку натуральное хозяйство консервативно по определению. Естественно вытекающий из этого стилистический архаизм иногда воскрешает в памяти немое кино (и уж точно фотографию начала ХХ века, вроде портретов Августа Зандера), но речь тут идет не столько об эстетической преемственности, сколько о постоянстве человеческой истории. Отработанность и предсказуемость каждого ее поворота наглядно отражены в распорядке дня старика и его дочери. Утром восход, вечером закат. В начале рождение, в конце смерть.
Вспоминал крестьян в своей «Белой ленте» — такой же неспешной, эпической, немногословной, черно-белой, вдохновленной зандеровскими снимками — и Михаэль Ханеке: для него был важен социальный срез, позволявший увидеть все общество сразу. Тарра общество не волнует — его заботит человечество. В «Белой ленте» текст от автора был поручен умнику учителю, искавшему за кадром источник зла. Авторский голос «Туринской лошади» больше похож на дикторский. Он не верит в добро или зло, он не задает ненужных вопросов, его доля — бесстрастное всезнание: он включается на считанные секунды, чтобы рассказать, что делают старик и девушка после наступления темноты, а потом передоверяет функции повествователя вездесущей камере.
«Туринская лошадь» состоит всего из тридцати виртуозных длинных планов, но это отнюдь не пижонская демонстрация владения ремеслом. Тарр выкладывает карты: все, что существует в этом мире, представлено перед вашими глазами, ничто не спрятано за монтажными склейками. Камера движется свободно, как никогда, — исследует каждый уголок убогого жилища, переходит от общего плана к крупному и обратно, выходит во двор и заглядывает в колодец. Лишь в одной сцене оператор Фред Келемен не может догнать героев — они сбежали из дома и перешли границу видимого пейзажа, скрывшись за склоном холма… примерно на минуту. Потом — возвращение, как в обратной перемотке, к проверенному порядку событий (недаром в этой сцене лошадь запрягается позади телеги). Все, как прежде, никаких секретов. Мир таков, жизнь такова, другой не будет, и эта скоро кончится.
Увлечение детективом режиссер пережил в своей предыдущей картине «Человек из Лондона», основанной на романе Жоржа Сименона. Та работа была торжеством формализма, доведенного до неслыханных технических высот. В «Туринской лошади» Тарр будто потешается над собой вчерашним: оказывается, чистить вареную картофелину или тянуть ведро из колодца можно с такой же экспрессией, как любить, убивать или умирать. Однако энергия пустого действия иссякает на глазах, съедает саму себя, угасает, как лучина. Так жизнь переходит в смерть, в контексте как частном, так и универсальном. Из всех специалистов по эсхатологии, исследовавших в кинематографе вопросы Апокалипсиса в последнее десятилетие, Тарр оказался самым последовательным. Он не задается вопросом, как выжить во время конца света (подобно Роланду Эммериху), и не спрашивает о том, как жить после конца света (подобно тому же Ханеке). Конец — значит, конец. Тушите свет. Хотя он и без вас погаснет.
Девушка читает вслух книгу, оставленную цыганами (специально сочиненный в духе апокрифического Евангелия текст), все о том же: человечество грешило, и жрец запер двери храма… Что остается в такой ситуации? Только ждать — не зная, чего ждешь. Как мы проводим часы, уставившись в телевизор, герои «Туринской лошади» пялятся в окно, за которым нет ничего, кроме пляшущих на ветру листьев. Там — реальность, неподвластная и недружелюбная. Реальность отделена стеклом и решеткой оконной рамы, но в тюрьме они наблюдатели, а не вольный хаос, в котором по воздуху дико носятся листья, будто хлопья пепла из проснувшегося вулкана. Зрелище гипнотизирует.
Скорбное бесчувствие заражает людей, как и лошадей. Впрочем, лошади хватает мужества остановиться, когда человек малодушно продолжает жить и ждать. Вот и вся разница. Самый эффектный момент фильма — возникающий за минуту до финала титр «День шестой». Вроде мир истончился и исчез, в нем не осталось ничего, так что же будет на экране? А все то же. Двое за грубым тесаным столом, в миске две картофелины. Сырые — огня-то больше нет. «Ешь. Надо есть».
Бела Тарр не думает о суициде, но ему хватает воли на то, чтобы остановиться. После «Туринской лошади», в пятьдесят пять лет венгерский режиссер покидает кинематограф. В своей последовательности он, право, ближе к лошадям, чем к людям. Наверное, поэтому он продолжил дело, начатое Раскольниковым и Ницше: отбирая исполнительницу главной роли на лошадином рынке, Тарр спас от побоев и тяжкой работы кобылу по прозвищу Ричи. Сейчас она живет привольно и счастливо, как полагается кинозвезде.
Так неожиданно из тумана вырисовываются компоненты смысла, об отсутствии которого так отчаянно кричит каждый кадр «Туринской лошади»: спасти живое существо, построить дом… Что там третье по списку? Возможно, снять фильм? Бела Тарр думает иначе. Лошадь спасена, дом построен, с кинематографом покончено.
Все к лучшему.
«Туринская лошадь»
A torinоi lо
Авторы сценария Ласло Краснахоркаи, Бела Тарр
Режиссер Бела Тарр
Сорежиссер Агнеш Храницки
Оператор Фред Келемен
Художник Жиглер Ката
Композитор Михай Виг
В ролях: Янош Держи, Эрика Бок, Михай Кормош
TT Filmuhely, vega Film, Zero Fiction Film,
Movie Partners In Motion Film
Венгрия — Франция — Германия — Швейцария — США
2011
Журнал "Искусство кино", №3, март 2011













